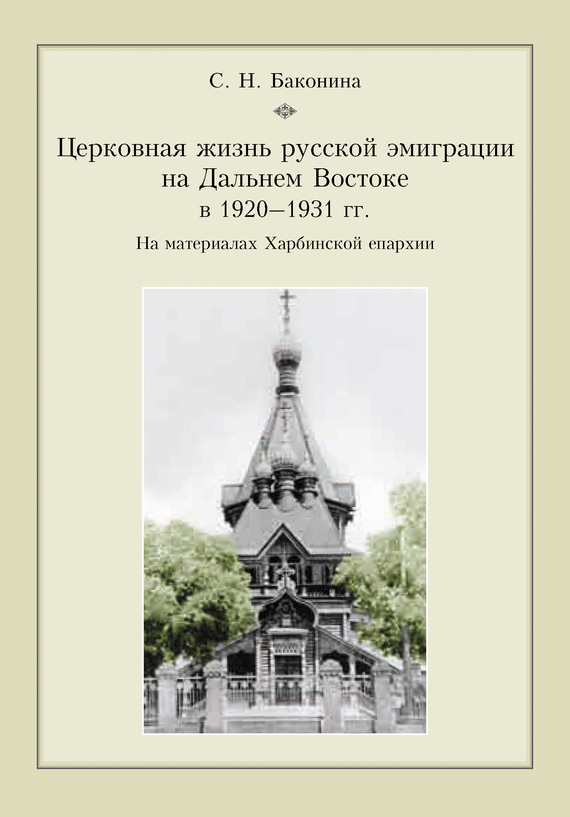Шрифт:
Закладка:
– Спасибо, – говорит Леванид.
– Надо отвечать – служу Советскому Союзу!
– Да я уж позабыл. Служба моя теперь вокруг бабы да коровы. Давайте ордена!
– Оба нельзя. Тут одна неувязка. Ваше отчество Афанасиевич?
– Так точно.
– Вот видите. А здесь в одном документе записано Афанасиевич, а в другом Аффониевич.
– Так, может быть, это не я?
– По всему видать, вы. И год рождения ваш, и место рождения… только отчество Аффониевич? Этот орден Красной Звезды мы отправим обратно в Москву и сопроводиловку пошлем, где укажем, что вы не Аффониевич, а Афанасиевич. Там исправят и пришлют обратно. Вы согласны?
– Согласен. Мне можно идти?
– А второй орден! Этот мы вам вручим.
– Ну, давайте! – Леванид протянул руку.
– Так просто из рук в руки орден нельзя передавать. Надо представителей власти собрать. Торжественную обстановку сделать. Тогда и вручим вам этот орден.
– Да мне некогда ждать торжественной обстановки, – говорит Леванид. – Мне корову надо грузить.
– Корову можно отложить.
– Никак нельзя. Два месяца ждал.
– Ну как же нам быть? И мне надо в район ехать… Тогда вот что! – придумал подполковник. – Накройте стол красной скатертью, над этим столом я вручу вам и орден и руку пожму.
Наш председатель сельсовета Топырин достал из сундука красный материал с лозунгом, расстелил обратной стороной на столе, и подполковник вручил Леваниду орден.
Пришел я к нему на другой день – орден на столе.
– Ты чего это достал его? – спрашиваю. – Любуешься?
– Испытание проводил. Я все думал, что орден первой степени из золота сделан. Но вот рассмотрел его, покусал… Простой металл.
И он стал рассказывать мне, как сдавали корову и сколько она скинула в живом весе за последние два месяца:
– Была корова, как печь. А пока сдали ее, мослы выщелкнулись.
Про мою личную жизнь
Трудовая автобиография советского человека иной раз осложняется личной жизнью. То есть ежели вы, к примеру, выпимши поскандалили, стекла повыбили или кому-нибудь по шее заехали, а то, может, на стороне зазнобу завели и в свободное от работы время уклоняетесь от исполнения семейных обязанностей – все это и называется личной жизнью. Личная жизнь разбирается на партийном бюро, а ежели вы беспартийный, то на правлении колхоза или на товарищеском суде. Из чего следует, что личная жизнь есть язва на теле общества, то есть пережиток.
Заболел я ей, можно сказать, случайно. И ведь горя не было б, кабы я свою Маруську не любил. Она хотя и скандальная у меня особа, но хозяйство держит исправно, напоит тебя и накормит вовремя и спать уложит. Так что Маруську я не променяю ни на какую личную жизнь. А повело меня на уклонение от семейных обязанностей, должно быть, с устатку. Весна выдалась трудной…
Сижу это я в кабинете один, в сумерках. И вот тебе заявляется пасечница с дальней корабишенской пасеки и подает мне акт. Читаю: «Акт составлен ниже в следующем, в том, что вчера при свете приехали ко мне на пасеку начальник охраны Хамов Леонтий с братом Михаилом и стали якобы проверять меня на сомнительные ульи. Леонтий ходил по ставу и хлестал по ульям кнутом насчет выявления сомнительного улья. Якобы один нашел. Открыли его, мед взяли и бросили раскрытым. А другие пчелы набросились и уничтожили весь рой…»
Читаю и смотрю я не столько на бумагу, сколько на саму пасечницу, – в хромовых сапожках она, икры голенищами обтянуты, как резиночками – не ноги, а прямо калачи ситные. Фуфайка зеленая распахнута, и кофточка розовая на груди с просветом, аж лямки лифчика видны. Волосы в пучке на затылке, что твоя копна высится, брови черные с росчерком, как крылья от серпочка… Брат родной! У меня аж во рту пересохло и в ушах зажухало: «Жух, жух, жух!» И вспомнил я, как в армии на турнике солнце крутил… Плечи расправил, смотрю на нее, как одурелый. А она стоит, избочась, да прутиком о голяшки сапог хлысть, хлысть. И повело меня на уклонение…
– Катерина Ивановна, – говорю, – какое же у вас мнение о председателе, то есть обо мне? Разве можно вам стоять в моем присутствии? Это было бы неуважение с моей стороны. Садитесь на диван.
А она мне якобы сквозь смех:
– А может быть, мне скучно одной-то на диване сидеть?
– Это вы, – говорю, – напрасно сумлеваетесь. Со мной вам скучно не будет.
– Ну, шире – дале…
Муж у нее в бригадирах ходил – квелый мужичонка: ноги сухие и длинные, как палки в штанах, нос картошкой, глазки маленькие и кепка по самые уши, как на чучеле огородном. А бегал – на лошади не догонишь. Его и прозвали Дергуном…
Первым делом я отправил его на лесозаготовки – с глаз подальше. А сам пересел в седло, чтобы без свидетелей…
Бывалочи вечерком подтяну подпруги – и гайда! Седельце у меня было в серебряном окладе, лука низкая – сотню верст скачи – не притомишься. Только на опушке леса покажусь – она уж тут как тут, ждет меня моя касаточка. Я ее одной рукой с земли приподнимал и прямо в седло, к себе на колени. И везу куда хочу.
В омшанике мы сеновал устроили – постель под самой крышей на сене духовитом, да под пологом. Разденемся, бывало, донага, нырнем под полог, как в твою речную волну, и всю ночь челюпкаемся. Я, говорит, за то тебя люблю, Петя, что после ночки с тобой я день-деньской пластом валяюсь. Да и я ее любил, признаться, – в передовые пчеловоды вывел, часами ручными наградил и почетной грамотой.
Все бы оно хорошо… Да беды не предвидишь, от нее не уйдешь, как от районного начальства. Вот звонят мне из района:
– Никуда не уезжай – к вам уполномоченный.
Значит, готовь лагун меду. Послал я за медовухой к Дуньке Сивой, сижу в правлении, жду.
Приехал, оказывается, корреспондент с фотоаппаратом – передовиков фотографировать. Тут я думаю: порадую-ка свою Катерину Ивановну. Сфотографирует он ее и в районную газету поместит. Парню этому я верил – не раз выпивали. Опростали мы с ним вдвоем лагун медовухи и поехали к Катюше на пасеку.
У нее было много платьев – в сундуке лежали, в омшанике. Принарядится, соображаю я, в самый раз будет.
Так и есть. Обрадовалась она… Медовухи нам поставила, а сама то в одно платье оденется, то в другое. Выйдет перед нами – прямо краля бубен! То шеей лебедя выгнет, то ручкой… Ну, меня и разожгло:
– Давай, Катюша, изобразим картину у шатра!
У
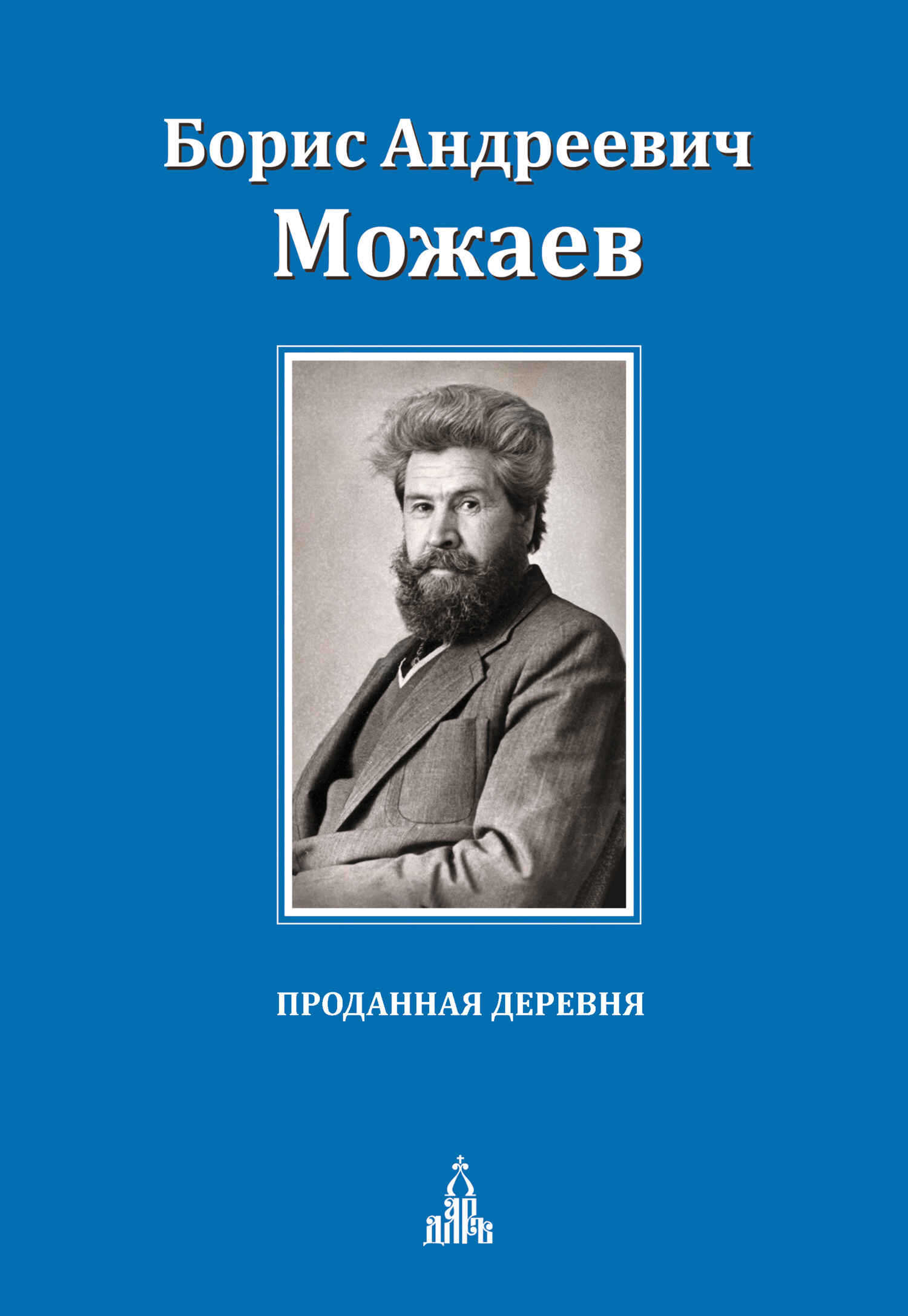
![Проданная деревня [сборник] - Борис Андреевич Можаев](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)